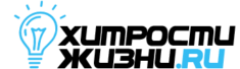Имя на букву «R»
Из деревни Яна привезла в то лето два страшных секрета, надежно прикрытых двумя тугими футболками. Первый: у нее появилась татуировка. И второй: она была беременна.

Она вернулась тогда в город раньше обычного – было лишь начало августа, хотя обычно Яна оставалась у бабушки почти до первого сентября. И дело было вовсе не в осатанелых августовских комарах, и уж конечно не в том, что она собиралась целый месяц готовиться к школе.
В ванной, рассматривая в зеркало свое левое плечо, Яна в который раз беззвучно кричала: зачем, ну зачем? Зачем она сделала эту ужасную татуировку? Неровная, вся какая-то перекошенная, совершенно непрофессиональная, татуировка всего за несколько недель почти свела ее с ума. Но самое ужасное было в том, что вместо задуманной русской буквы «Я», на плече красовалась глупая латинская «R». Вспоминая всю эту бредовую идею с татуировками, Яна все никак не могла понять — что же нашло тогда на них обеих, на нее и на ее шестнадцатилетнюю двоюродную сестру Ленку? Кому вообще пришла в голову эта безумная идея делать наколки, да еще самим себе? Но дело было сделано – У Ленки на плече появилась ровненькая буковка «Л», а Яна получила кривобокую и неоднозначную «R».
Яна помнила общую атмосферу того безумного вечера – разгоряченные пивом, дико хохочущие, они забрались тогда с Ленкой на чердак и все не могли остановиться от смеха, а снизу на них громко кричала бабушка, но от этого становилось лишь смешнее. Так, под заливистый незлобный мат бабушки, которая не могла добраться до них по шаткой лестнице, булавкой и синими чернилами из сельмага, без малейшего намека на стерильность, они и накололи свои нехитрые девичьи амбиции на свои голые плечики. Ориентируясь на все время дрожащее зеркальце, которое дико хохочущая Ленка все не могла держать ровно, Яна, которая была в тот вечер главным мастером тату, и сделала свою позорную и роковую ошибку – вместо «Я» у нее получилось «R» — такую уж злую шутку сыграло с ней зеркальное отражение.
Наутро, притихшие и получившие крепкий нагоняй от бабушки, обе в футболках с длинными рукавами вместо привычных маек, они пытались найти хорошее в плохом – зато будет память.
Уже через несколько недель Яна поняла, что память у нее будет не только из-за татуировки на плече – в ту пьяную и лихую неделю случилось и еще кое-что, и вспоминать об этом ей было противно и очень-очень страшно. Теперь она уже все прекрасно понимала – не нужно было подыгрывать тогда Ленке в этой дикой и безумной игре, которую они затеяли на пляже возле деревенского пруда. Так, когда Ленка, которая всегда была душой компании и считалась красавицей, предложила играть в карты на раздевание, парни поддержали охотно, а она, четырнадцатилетняя, сначала застеснялась и даже подумывала потихоньку сбежать домой. Но слишком зазывно хохотала Ленка, слишком приятно бодрило пиво и слишком хотелось ей, Яне, тоже быть взрослой, смелой и независимой.
И скоро она и действительно почувствовала себя смелой и дерзкой, сидя с голой грудью перед тремя деревенскими парнями. Ленка осталась тогда в чем мать родила, и Яна помнила, как позже она, пьяная и голая, танцевала возле кромки воды у пруда. Сама она тоже сильно опьянела от еще непривычного пива, и позднее Яна почти клялась, что просто-напросто уснула тогда на раскаленном песке, и ни палящее солнце, ни дикие крики, ни двусмысленные взгляды деревенских парней не могли потревожить ее молодой и пьяный сон. Во сне ей было тревожно – что-то тяжелое то наваливалось ей на грудь, то билось тупой болью в животе, и иногда она даже словно бы слышала собственный крик.
Проснулась Яна от все той же боли в животе. Оглядевшись, она нашла себя все еще на пляже, уже в футболке, а рядом, согнувшись в три погибели и притянув коленки к подбородку, сидела притихшая Ленка.
— Ой, блииин, живот как болит, — Яна с трудом села и огляделась. Ребят уже не было, и оранжевое солнце зависло над лесом, который начинался за полем на той стороне пруда. – А где все?
Ленка молчала и лишь странно и монотонно раскачивалась в такт одной ей ведомому мотиву. Приглядевшись, Яна заметила, что та недавно плакала – на щеках ее застыли серые дорожки от туши, а нос и губы распухли и расплылись.
— А ты чего ревешь, Лен? — спросила она осторожно.
— А чего мне – смеяться? – огрызнулась та хриплым голосом, и Яна, охая и держась за живот, прямо на четвереньках подползла к ней по песку.
— Так чего случилось-то? Говори давай!
— Так ты что же, и вправду спала все время? – Ленка шмыгнула носом и с недоверием уставилась на сестру.
— Ну, да… спала… Лен, да говори уже, чего ты тянешь-то? Бабушка нас нашла? Домой теперь нас отправит?
— Изнасиловали нас, вот что случилось. – Ленка с каким-то вызовом посмотрела на сестру, словно пытаясь произвести на нее эффект. – Из-на-си-ло-ва-ли. Тебя и меня. Обеих. Но ты при этом умудрилась даже не проснуться… Или ты притворяешься, а, Ян?
Такого Яна не ожидала. Выходит, тот сон вовсе не был кошмаром, и все, что ей снилось, происходило на самом деле? В голове еще шумело выпитое пиво, происходящее казалось каким-то постыдным живым кошмаром.
— Как это… изнасиловали? – глупо переспросила она Ленку и закрыла руками рот. К горлу подступила волна рвоты, и Яна едва успела отвернуться, как из нее буквально хлынула отвратительная масса.
Проблевавшись, она доползла до пруда, ополоснула рот, прополоскала кончики своих волос, в которых застряла рвота, и вернулась к сестре. На этот раз она уже не глупила и не задавала ненужных вопросов, лишь коротко спросила:
— Кто?
— Тебя – Лешка, меня – Валерка.
Вечером, лежа вдвоем на широкой железной кровати с восхитительной бабушкиной периной, они не стали говорить о том, что вовсе не так представляли себе свой «первый раз», а вместо этого поклялись никому о случившемся не говорить. Хвастаться здесь было совершенно нечем. Обе прекрасно помнили и голые танцы у пруда, и пиво, и в целом чувствовали себя виноватыми. Засыпая, они все же пришли к выводу, что на самом деле все не так страшно – Ленке уже исполнилось шестнадцать, Яне скоро будет пятнадцать. Нормально.
Насильники – Лешка и Валерка – объявились уже на следующее утро и сбивчиво извинялись, ссылаясь на пьянку и очень уж соблазнительные обстоятельства.
— Не, Яна, ну реально… ты мужика-то тоже понимать должна, — напирал восемнадцатилетний Лешка, — Не, ну нельзя же так-то… Не, ну мужика-то чего дразнить… Не, Ян, тебе хоть кто скажет, ты реально сама виновата.
Яна не спорила — виновата так виновата, но видеть Лешку больше не хотела, и когда он, окрыленный безнаказанностью, попробовал было подкатить к ней снова, Яна резко оборвала его. Случившееся, хоть она почти ничего и не помнила, было все же чем-то постыдным, чем-то, что хотелось забыть.
И они забыли. Всего через пару дней, уже без парней, они снова тайком покупали в сельмаге пиво и пили его все на том же чердаке, и именно в один из таких безумных вечеров и появилась идея татуировок.
Впрочем, несмотря на лихое веселье, каникулы все же решили закончить пораньше, и Лена с Яной засобирались по домам. Бабушка не спорила и не останавливала – держать в узде двух «здоровых безмозглых кобыл», как она их прозвала в то лето, она была не в силах. Так, спрятав под несколькими футболками свои трофеи-татуировки и сговорившись приехать в следующем июне, и разъехались по домам.
Мать обнаружила татуировку в начале сентября, когда утром будила Яну в школу. Увидела, поджала губы и, молча, отправилась за скакалкой. Крик начался потом, когда Яна, с распухшими от хлесткой скакалки ногами уже закрылась в ванной.
— Ты что же это делаешь, тварь? – бушевала мать за дверью, а привыкшая к материным вспышкам Яна лишь потирала свои с детства привычные к экзекуции скакалкой ноги.
Мать работала в ее же школе учительницей по домоводству у девочек, и вряд ли кто мог предположить, что бодрая и всегда дружелюбная и улыбчивая Дина Михайловна дома была настоящим демоном. Отца Яна не боялась – его тихая личность давно растворилась в тяжелом материнском характере.
— А ну, покажи отцу свое художество! – рявкнула мать вечером, за ужином.
Яна отложила вилку и покорно завернула рукав. Буква «R» в желтом свете кухни казалась особенно жалкой. Мелкая, кривая и неровная, она, казалось, могла вызывать лишь жалость, но никак не гнев.
— Ого! – удивился отец и даже весело присвистнул, а потом, опомнившись, посмотрел на Яну как и положено, строго. – Ну, и зачем? – спросил он, коротко и подобострастно глянув при этом на мать.
— Нечаянно я… Не подумала. Я ее сведу скоро, к следующему лету и следа не останется. – пообещала Яна.
— Сведет она… В могилу она меня сведет! – привычно подхватила мать и все же не удержалась, набросилась заодно и на отца:
— Ну, доволен? Этого ты добивался? Я тебе говорила, что эта дрянь еще такого нам устроит!
Впрочем, на этот раз Яна уже не боялась – все худшее было уже позади, и теперь она даже чувствовала некоторое облегчение – по крайней мере, прятать позорную татуировку дома больше было не нужно. К счастью, родители не стали интересоваться, что за странный смысл несет в себе латинская буква «R».
О том, что она может быть беременна, Яна впервые подумала еще тогда, в деревне. Вернее, подумала она не сама – страх забеременеть первой озвучила Ленка. Яна похолодела тогда от одной мысли об этом, а уже в следующее мгновение в голове ее включился нехитрый калькулятор. Задержка была.
Какое-то время Яна гнала от себя мысли о самом страшном, но уже к сентябрю по утрам она обессилено висела над ванной, шумно отвернув воду, а однажды, только заслышав запах моркови, которую когда мать варила для «зимнего» салата, ее неожиданно и необратимо вырвало. В школе она не могла даже приблизиться к столовой – запахи горячих алюминиевых ложек, посудных тряпок и сладкого подлива делали ее по-настоящему больной. Впрочем, она держалась неплохо, справляясь с ежедневными приступами липкой паники, а ближе к концу сентября нашла в себе силы и оказалась в регистратуре городской женской консультации.
До этого Яна была у гинеколога лишь однажды – в прошлом году их, восьмиклассниц, привели в женскую больницу на медосмотр. Притихшие, они по очереди заходили в кабинет с угрожающей конструкцией смотрового стула (или стола), а, выходя, покрасневшие и смущенные, вряд ли хотели обсуждать с кем-то происшедшее. Тот первый осмотр у гинеколога хотелось забыть, забыть надолго.
Она приехала в женскую консультацию после уроков — пропускать школу у нее никогда не получалось из-за матери, которая четко следила и за оценками, и за посещаемостью.
В регистратуре было несколько женщин, в основном беременных, они нестройно стояли в очередь к маленькому окошку. Яна не решилась встать как все в очередь, и ей пришлось пропустить несколько человек в надежде, что никто не встанет за ней. Минут через сорок пять она поняла, что ждать бесполезно и, набравшись решимости, уверенно подняла руку, когда очередная беременная уточнила, кто последний. Окошко регистратуры было маленьким, и Яна почти просунула в него голову — ей не хотелось, чтобы ее слышали.
— Мне нужно направление на аборт, — неуверенно, изо всех сил заглядывая в глаза немолодой регистраторши и пытаясь определить ее отношение к происходящему, проговорила Яна. Она совсем не знала, чего ожидать, но реакция регистраторши превзошла даже самое худшее.
— На або-о-о-рт? — громко переспросила та и даже отъехала на своем стуле от конторки. А в следующий момент она уже широко развернулась и громогласно провопила куда-то в глубину стеллажей с карточками, рядами стоявшими за ее спиной:
— Нет, вы только посмотрите на нее — на аборт ей направление, видите ли, давай! Нет, ну вы такое видали, а? Нет, вы только гляньте на нее, а? — и регистраторша сделала кому-то широкий приглашающий жест в сторону Яны. Та сжалась и словно прилипла к стойке. Спину ее прожигали взгляды благополучных и взрослых беременных, которые, как ей казалось, имели полное право на свои раздувшиеся животы, в то время как она, Яна, чувствовала себя непрошенной, никчемной и жалкой воровкой. Отчаянно захотелось зареветь, убежать, хлопнуть дверью, бить, крушить, лишь бы не стоять вот так перед этой крикливой теткой-регистраторшей, которая тем временем уперла руки в бока и осуждающе раскачивалась на своем стуле.
Откуда-то из-за стеллажей выглянула пара голов в белых колпачках, одна немедленно скрылась назад, а вторая, молодая и довольно симпатичная, подошла поближе и с интересом посмотрела на Яну.
— Тебе лет сколько? — дружелюбно и негромко спросила она.
— Пятнадцать, — тихо и обреченно приврала Яна. На самом деле пятнадцать ей исполнялось через две недели.
— Тогда только с родителями, — снова негромко проговорила ей “хорошая” регистраторша, а толстая, услышав возраст Яны, всплеснула руками и снова громогласно провопила:
— Во! Пятнадцать! Нет, ну вы только посмотрите, а? Пятнадцать! Куда катимся-то, граждане, а? Уже пятнадцатилетки вон приходят и на аборт направление требуют!
Яна, у которой уже словно прыгали перед глазами цветные мячики, стараясь не обращать внимания на крики громогласной, из последних сил взяла себя в руки и как бы буднично спросила:
— А без родителей никак?
“Хорошая” лишь с пониманием покачала головой.
Тем же вечером Яна почти сварила себя в ванной — она не помнила, откуда узнала подобное, но ей было все равно. За следующую неделю она перепробовала и еще много чего — пила свекольный сок, сыпала в тазик с водой горчицу и даже поднимала и опускала тяжеленный диван в гостиной. Все было напрасно — кто-то маленький, но уже очень вредный крепко вцепился в нее внутри и твердо решил испортить ей, Яне, жизнь.
— Убью! — взревела мать, и вцепилась дочери в волосы. Яна орала как резаная — не от того, что было так уж больно, но так уж полагалось по сценарию, она знала наверняка, что мать остынет только тогда, когда она, Яна, окажется полностью поверженной. И она старалась вовсю — громко кричала, всхлипывала и подвывала, просила прощения и обещала.
Мать била ее тогда долго — в ход в этот раз был пущен шланг от стиральной машинки. Бил он хоть и не так хлестко, как скакалка, но мощно.
Через пару дней мать в ее лучшем рабочем костюме и новых туфлях уже заполняла в регистратуре женской консультации бумажки. Притихшая и вялая от тошноты и ругани, Яна стояла там же, привалившись к стене. В последние дни ей пришлось действительно тяжко, но последней каплей стал унизительный подзатыльник от отца, который она получила накануне вечером после ужина. Так, никогда не поднимавший на нее руку, отец, разгоряченный материнскими воплями, вдруг коротко и резко врезал Яне по голове. От неожиданности она втянула голову в плечи, да так и застыла, и на какое-то мгновение ей показалось, что все это происходит вовсе не с ней, и не горят у нее распухшие от шланга ноги, не звенит в ушах от боли и унижения после отцовского предательства, а в животе ее не сидит упрямым маленьким демоном непрошенный ребенок.
— В понедельник в восемь тридцать, — бросила ей мать маленькую серую бумажку. Домой добрались молча, а чуть позднее Яна, которая безвылазно сидела в своей комнате, снова услышала знакомое начало концерта.
— Нет, это ж надо такой позор на мою голову, а? — разорялась та, и все это сопровождалось звоном и грохотом очередной битой тарелки. Когда разъяренная мать, оглядываясь по сторонам в поисках орудия, ворвалась к ней в комнату, она лишь свернулась на своей кровати, инстинктивно прикрыв коленями живот.
Идти на аборт было страшно. Яна совсем не представляла себе, что и как будет происходить, а в голове ее одна за другой мелькали картинки: стерильно-белая операционная, матово блестящие инструменты, напоминающие орудия пыток, строгий, осуждающий взгляд пожилого доктора, похожего на Айболита.
Действительность оказалась совсем другой — вместо стерильных кафельных стен она увидала темный, крашеный в унылый зеленый цвет коридор и длинную очередь из женщин — одни сидели на стульях, другие, которым стульев не хватило, стояли вдоль стен. Одетая в свою самую “взрослую” одежду, бежевую материну водолазку и юбку-шотландку, с гладко убранными волосами, Яна все же опять почувствовала себя самозванкой.
— У меня талон на восемь тридцать, — набравшись смелости, громко обратилась она ко всем и никому.
В ответ с разных концов коридора раздался недружный смех. Как реагировать Яна не знала, а потому, растерявшись, но не подав вида, еще раз повторила:
— Я на восемь тридцать, за кем я буду?
— Милая моя, все здесь на восемь тридцать, — улыбнулась ей одна из ожидавших, полная немолодая женщина с добрым и очень круглым лицом.
— Как это — все? — не поняла Яна. Она живо представила себе огромный зал, в котором одновременно выпотрашивают животы множеству женщин. К горлу снова подступила тошнота.
— Живая очередь, занимай, пока другие не набежали. Видишь вон ту бабушку? Вот за ней и будешь.
— Вы последняя? — подошла Яна к неожиданно откуда взявшейся в очереди старушке.
— Я, девочка, я последняя, — встрепенувшись, охотно согласилась та и немедленно снова погрузилась в какую-то полуспячку. Яна заметила, как понимающе переглянулись и коротко улыбнулись между собой две молодые женщины, сидящие рядом со старушкой, и одновременно с этим она буквально почувствовала спиной, как смотрят на нее все до единой женщины в очереди.
Делать было нечего. Стараясь казаться все также взрослой и независимой, она прислонилась к стене и тоже начала ждать, а когда в конце коридора показалась “новенькая”, Яна, уже готовая к этому, махнула ей рукой — “за мной”. От нечего делать она принялась разглядывать коридор. Странно, но здесь, на четвертом этаже больница вовсе не выглядела как больница — ни белых стен, ни чистого светлого линолеума, которые Яна помнила по хирургии, где ей несколько лет назад вырезали аппендицит. Пол был старым — коричневая краска кусками открашивалась от старых деревянных половиц, а стены были давно и грубо покрашены в темно-зеленый. То там, то здесь с потолка свисали голые электрические лампочки, а откуда-то из конца коридора доносился резкий и однозначный запах туалета.
Ничего не происходило. Время от времени Яна поглядывала на большую двустворчатую дверь, которая была центром внимания всех ожидавших женщин. Иногда из-за двери доносились громкие звуки, напоминавшие звуки кухни — то грохот железных бачков, то перезвон ложек, и тогда все женщины в очереди чутко вздрагивали и обращались во внимание и готовность.
Было не то чтобы страшно, но как-то тревожно, и Яна попыталась думать о чем-нибудь хорошем. Получалось не очень.
Прошло еще полчаса. Женщины в очереди заметно ерзали, но вели себя тихо — вообще, было в этой больнице нечто неуловимо унизительное, постыдное, и все они — и Яна, которой едва исполнилось пятнадцать, и старушка, которой вряд ли было меньше шестидесяти пяти, словно молчаливо признали себя виноватыми и приготовились терпеливо нести свою вину.
Ближе к десяти белая двустворчатая дверь вдруг широко распахнулась, и в проеме показалась могучая медсестра. Она по-хозяйски окинула взглядом коридор и очередь и недовольно покачала головой. Потом громогласно объявила:
— Первые двое заходим!
В тот же момент две женщины из очереди, те, что сидели ближе к двери, буквально подскочили со своих стульев, словно под ними сработали тугие пружины. Обе униженно и незаметно проскользнули в небольшой просвет, оставшийся между медсестрой и косяком, а та тем временем зычно гаркнула:
— Следующая пара готовимся!
Яну слегка заколотило — происходящее словно уже захватило ее в какой-то ураган, выход из которого был только один — белая двустворчатая дверь.
Когда подошла ее очередь, была уже половина третьего. Из кабинета по одной выходили бледные женщины, многие улыбались и горячо и все так же униженно прощались с кем-то внутри. На лицах читалось облегчение. Перемещаясь по стульям вместе со старушкой, которая после добровольной переклички в очереди оказалась ее “парой”, Яна сидела уже возле самой двери.
— Заходим! — раздался заветный клич, и Яна, как и все до нее, подпрыгнула со своего стула. Подпрыгнула и старушка.
Яна ожидала самого худшего, но никак не того, что случилось, когда она оказалась внутри — их встретили дружным смехом.
— Старый да малый! — надрывалась громогласная медсестра.
Старушка, тем временем, совсем не обращая внимания на смех, сноровисто принялась раздеваться, не дождавшись приглашения — подхватила цветастый подол, широким движением смахнула на пол трусы и с готовностью через них перешагнула.
Яна неуверенно теребила поясок от юбки, не зная, что делать.
Медсестра тем временем, не прекращая смеяться, махнула ей рукой в сторону кушетки у двери — туда. Яна робко присела на краешек и, чувствуя себя почти неживой, начала стаскивать колготки.
Мимо нее почти бегом, шлепая босыми ногами по полу, просеменила голозадая «напарница» — в нелепой цветастой кофте и платке на голове, но раздетая ниже пояса, она сноровисто принялась карабкаться на устрашающую конструкцию одного из двух кресел.
Раздевшись, не зная, куда девать руки, Яна на цыпочках подошла к другому. Взобравшись, устроившись и расставив ноги, она тут же пообещала себе навсегда забыть весь этот кошмар, оставалось лишь немного, совсем немного потерпеть…
— Эк, разлеглась, барыня, а пеленка где твоя? — вдруг услышала она откуда-то между ног. И следом, еще громче:
— А это у нас что за красота здесь?
Яна подняла голову и с ужасом увидела, что “красота” находится как раз у нее между ног. А медсестра тем временем больно дернула ее за волосы:
— Ты что — неграмотная? Читать не умеешь? На двери для кого написано, как готовиться к аборту надо?
— Извините, — пробормотала Яна и глупо прибавила, — Я в первый раз.
— Да по мне хоть в двадцать пятый, а цирюльников у нас тут на всех нету. Побриться не удосужилась? — вдруг злобно заорала на нее медсестра, а потом, круто развернувшись, протопала куда-то к двери, и Яна к своему ужасу услышала, как открылась дверь и медсестра гаркнула в очередь:
— Следующая, одна, не пара! Одна, говорю! — за дверью послышались возбужденные голоса, который смолкли, когда медсестра снова проорала:
— Да все равно мне, кто из вас первый, сами разбирайтесь, и не задерживайте, у нас тут таких каждый день…
— Кресло освобождаем, чего разлеглась? Ни пеленки нет, не побрилась, пришла тут барыня малолетняя, понимаешь…
Яна, с шумом в голове и не веря в происходящее, покорно слезла со стула и, прикрывая руками лобок, тенью проскользнула к кушетке. На нее никто не смотрел, а рядом уже торопливо скидывала с себя одежду другая женщина.
Она уже открывала дверь, когда одна из белых халатов, по виду санитарка, сказала ей:
— Погоди. На вот тебе, иди в туалет, там побреешься и приходи, без очереди тебя пропущу.
Она сунула Яне в руки бритвенный станок, и та еле слышно прошептала:
— Спасибо.
В туалете было три кабинки без дверей, разделенных деревянными перегородками, и кособокая раковина. Яна попробовала было открыть горячий кран, но он безнадежно провернулся, не выцедив ни капли воды. Затравленно оглянувшись, Яна зашла в самую дальнюю кабинку, задрала юбку и стянула колготки с трусиками. Старый станок с ржавым лезвием безжалостно драл кожу, хаотично выхватывая клочки волос. Руки дрожали.
Внезапно Яна остановилась и без сил уселась прямо на немытый унитаз. Непрошеные слезы застилали глаза, что-то внутри мерно и гулко колотилось, и незаметно для себя она начала бездумно качать головой, словно повинуясь этому внутреннему ритму. Рука со станком продолжала тем временем дрожать в другом ритме, не таком мерном и более частом.
Она словно очнулась, когда услышала, как дверь в туалет открылась, и какая-то-то женщина, коротко заглянув в ее кабинку, ойкнула и заняла другую.
Яна, словно робот, встала с унитаза, механически натянула штаны, аккуратно расправила юбку, подошла к раковине, положила на ее краешек станок. Аккуратно и тихо прикрыла за собой дверь и, ничего не видя перед собой, прошла по коридору под любопытными взглядами притихших женщин.
Мысль назвать его Ромкой пришла в январе, причем как-то вдруг. Яна даже вздрогнула: как же она не догадалась раньше? И ее татуировка, которая все это время словно прожигала ее плечо, вдруг обрела смысл и значительность. Конечно же Ромка! Romka… Яна ликовала — впервые за несколько месяцев на нее словно снизошла благодать, она про себя смаковала это короткое и милое имя, и с каждым разом оно звучало все лучше и лучше.
Липкая затравленность последних месяцев внезапно улетучилась — впервые за последнее время она словно увидела в своих действиях некую цельность, даже закономерность. Все сходилось — “R” — Ромка!
И когда он (а она нисколько не сомневалась, что это именно он, а не она) впервые несмело толкнулся и зашевелился в ее животе, Яна, словно приветствуя, погладила его: Ромка…
Именно тогда, в январе, она осознанно полюбила его, Ромку, еще не родившегося, но уже словно бы знакомого ей.
По вечерам, прошмыгнув в просторной ночнушке в кровать, она бессознательно гладила свой живот и вспоминала, как однажды, ей было тогда лет двенадцать, в автобусе она держала на руках малыша, которого ей передала молодая симпатичная веснушчатая девушка. Яна пыталась тогда уступить ей свое место, но та лишь весело отмахнулась, а вместо этого вопросительно кивнула на спящего малыша: возьмешь? Яна бережно уложила спящего мальчишечку к себе на колени — она очень боялась побеспокоить его, но он спал крепко. Яна смотрела тогда на маленькое круглое личико с тугими щечками, на кнопочный носик и на маленький и удивительно четко очерченный ротик — словно у фарфоровой куклы, которая стояла у бабушке на комоде. В автобусе было жарко, и малыш был немного влажный, от него исходил удивительный запах, и Яна отчего-то подумала тогда: так пахнут ангелы.
Мать заметила живот в начале марта — даже самые просторные рубашки и толстовки уже не могли скрыть очевидного. И именно тогда Яна сумела впервые не дать себя избить.
— Не тронь меня! Малыша повредишь! — тихо, но четко прошипела она матери, которая, осознав ситуацию, дико вращала глазами в поисках орудия экзекуции.
— Слышишь? Не тронь! — во второй раз Яна уже кричала.
Не в силах осознать происходящее, мать безвольно плюхнулась на диван.
— Ты что же это… Ты что… Ты чего это… — как заведенная повторяла она, все еще не в силах осознать происходящее.
— Рожать буду. — Коротко бросила Яна и тяжело, нарочно вперевалку, прошагала в свою комнату.
Побоев тогда не было, хотя было много криков, много слез, много битой посуды и даже разбитый телевизор. Но Яна осталась тогда нетронутой, и вечером, оглаживая свой живот, она шепотом пообещала Ромке, что никто и никогда не тронет их больше и пальцем.
Школу она бросила на следующий после признания день. Без всякой подготовки, просто проснулась утром, посидела на кровати, вышла на кухню и сказала матери:
— Не могу я больше в школу… Пусть на второй год оставляют…
Мать, которая, несмотря на вчерашний скандал и слезы, выглядела бодрой и отдохнувшей, визгливо крикнула:
— Делай, что хочешь, я тебя больше не знаю.
Следующие два месяца прошли относительно спокойно — лишь однажды, после особенно громкого скандала, Яна ночевала на вокзале, где утром ее и нашел отец с милицией. Молчаливая, но не сдавшаяся, она покорно вернулась домой, а через неделю, роясь в шкафу, вдруг наткнулась на тугой новенький сверток. Развернула и тихо охнула — распашонки, чепчики и ползунки вдруг заставили ее разреветься. Она перебрала их тогда все — маленькие, словно кукольные, рубашечки с уютными медвежатами, веселые штанишки и шапочки — и все приговаривала тихонько: “Видишь, Ромка?”
Не объявленный, между ней и матерью впервые установился мир — та совсем перестала орать на Яну, и даже сама как-то вдруг успокоилась. В школе обошлось без шумихи — все же Дина Михайловна работала там без малого двадцать лет, и у них с директрисой давно были свои отношения.
Яна так и не появилась больше в женской консультации, и когда мать пару раз поднимала этот вопрос, лишь отмахивалась: все будет нормально. На самом деле она вовсе не знала, что и каким образом будет нормально, но идти в ту больницу заставить себя не могла.
Однажды утром в самом начале апреля живот вдруг резко и настойчиво заболел. “Ромка”, — истерично подумала Яна, а уже в следующее мгновение натягивала на себя одежду без разбору. Уже сидя в маршрутке, отправила матери эсэмэску: “Мама, у меня заболел живот, поехала в роддом. Позвоню”.
Живот болел как-то странно и непостоянно — боль то отступала, то снова наваливалась, и тогда Яна стискивала зубы и тихонько, про себя поскуливала. Ехать было недалеко, маршрутка вытряхнула ее возле серого здания, которое было единственным роддомом в городе.
Переминаясь с ноги на ногу, Яна проковыляла к двери, на которой большими синими буквами было написано: “Приемное отделение”.
— Здравствуйте, — тихонько обратилась она к миловидной медсестре в зеленой медицинской робе и круглой шапочке.
— Направление, паспорт, полис, — не отвечая и не глядя на нее, протянула руку та.
Яна судорожно вытряхнула из кармана паспорт с вложенным в него полисом и робко положила на стол. Боль подступала, и она присела на краешек стула.
— Направление где? — Яна даже вздрогнула от неожиданно громкого голоса.
— Нет направления, — обреченно проговорила она.
— Как это нет направления? — медсестра посмотрела на нее почти с отвращением. — А у кого наблюдалась?
— Ни у кого… — ожидая боли, Яна почти не могла говорить и лишь шептала.
— Без направления не примем, — отрезала медсестра, решительно отодвинула ее паспорт и громко добавила. — Всех с улицы подбирать прикажешь? Ни карты, ни направления, один живот, а мы тебя принимай? Да если даже я тебя приму, ни один доктор с тобой работать не будет без истории болезни, у нас тут…
Но Яна уже не слушала ее. Она вдруг поняла, что обмочилась — так часто бывало с ней в детстве, когда неожиданно, иногда совсем ни с того, ни с сего, штаны оказывались мокрыми. От безнадежности и позора за свою слабость она почти задохнулась. Теплая жидкость тем временем предательски пропитала колготки и рейтузы до самых сапог. Она с трудом вышла на крыльцо, и на какое-то время порыв холодного воздуха отвлек ее от накатившей боли. Мокрые ноги схватило холодом. Не зная, что делать, Яна пошла не в сторону от роддома, но вдоль стены здания. Боль снова отступила. Яна шла по узенькой дорожке под самой стеной дома и зачем-то заглядывала в низкие окна первого этажа — она увидела несколько уютных палат, на кроватях в них сидели женщины. Они разговаривали, смеялись, кто-то качал на руках малышей в пеленках. Они, казалось, нисколько не смущались незадернутых окон, и Яне снова показалось, что все они словно принадлежат к какому-то особому миру, миру избранных, в котором ей снова не оказалось места. Было стыдно и неловко, она чувствовала себя очень глупо с этим огромным, никому не нужным животом, и когда снова подошла боль, она, словно обманывая себя, позволила себе заплакать. Яна присела, прислонилась к стене дома и, растирая холодными руками глаза, коротко поревела. Боль снова отступила, и она обреченно поднялась, не представляя, куда именно направляется.
Внезапно узкая дорожка кончилась — перед ней был спуск в подвал, на дверях которого висела самодельная табличка: “Прием передач. Посещения. Часы работы: 8-10, 15-19”
Тяжелая дверь подалась без скрипа, за ней оказался длинный и узкий коридор, у одной из дверей стояло в очередь несколько человек. Внутри было тепло, пахло фруктами и домашней едой, а прямо перед собой слева Яна увидела открытую дверь с еще одной табличкой: «Гардероб».
Не понимая, что делает, она вдруг быстро прошмыгнула туда и направилась в самый конец раздевалки, вдоль вешалок с безжизненными пальто и куртками.
Надежно спрятавшись за плотными рядами стояков, она скинула свою теплую куртку, бросила ее на пол и тяжело опустилась на нее на колени. Боль пришла снова. А уже в следующее мгновение Яна, неловко завалившись на бок, яростно пинаясь, стаскивала с себя рейтузы и колготки, которые никак не хотели сниматься вместе с сапогами.
Она начала кричать, только когда почувствовала, что из нее словно толчком хлынуло что-то теплое, а потом что-то тяжелое сильно и больно потянуло где-то внизу. И только тогда она закричала и, начав кричать, все не могла остановиться. Плакала, судорожно заглатывала воздух, трогала что-то скользкое и незнакомое у себя между ног и снова кричала все громче. Она не помнила, откуда взялись люди, не слышала, как кто-то испугано охнул, не почувствовала, как ее подняли и куда-то понесли, она все кричала, кричала, кричала и перестала, лишь услышав непонятно откуда взявшийся голос матери:
— Все, все, уже все, все, все-все-все, всевсевсевсевсевсе… — мать приговаривала тихо, почти шептала, склонившись над ней, и Яне показалось, что все это происходит где-то там, в ее детстве. Мать все продолжала ласково шептать и гладить ее мокрый лоб, и от этого становилось спокойно и даже очень сильно захотелось спать.
— Мама, у меня направления нету, меня не возьмут, — прошептала Яна и тут же почти провалилась в сон. Там, во сне, было хорошо и уютно, там была мама, а откуда-то словно издалека вдруг раздался тоненький и какой-то очень мелодичный детский плач. Яна уже совсем не понимала, что происходит, но этот тоненький крик, казалось, был здесь очень к месту.
— Мам, можно я его Ромкой назову? – спросила она и, не дожидаясь ответа, снова провалилась в сон.
Автор: Paula_KfarSava
Источник