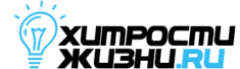Нас послали от предприятия возить зерно на элеватор. Жить меня поселили к одной бабке. Наши машины, груженные зерном, стояли возле здания правления. Мы готовились к очередному рейсу. И тут подошел ко мне дед.

— Сынок,— сказал он как-то родственно, и отозвал меня, и повел в сторону длинного строения, возле которого стоял возок. — Поддай,— попросил дед,— пытаясь взвалить мешок муки на плечи.
Я вынес мешок из кладовой и положил его в телегу. Вместе с ним мы выкатили телегу со двора правления.
— Сынок,— опять обратился он ко мне, — где же ты остановился? У Марии? Ты переходь ко мне. А? Я совсем один живу. И поговорить бывает не с кем. Бабку по осени схоронил. Переходь, сынок.
На другой день я перешел к нему. Хата деда Евдокимовича стояла на бугре за хуторским турником.
О том времени Евдокимович рассказывал:
— Три сына немцы убили. Хату спалили. А теперь вот хату колхоз поставил. Свет, правда, не успели провести еще. Но сейчас керосин в лавке есть, нечего жаловаться.
Большое окно смотрело на хутор. Тихие вечера коротали мы с дедом за этим окном. Пламя в лампе уже садилось, а дед все рассказывал о себе.
Образования у него нет никакого. Две зимы дрова колол у попа. А когда с германских позиций вернулся, этот поп взял его звонарем.
Дед еще засветло проверял в лампе фитиль, доливал керосину.
— Первый раз на Кубани? — спрашивал он.— Нравится?
— Хорошо здесь у вас.
— Да, сейчас можно жить. Меня вот сестра все кличет к себе. А я вот не могу поехать, душа не соглашается.
Пламя в лампе уже садилось.
— У тебя кто есть? — спрашивает дед.— Никого? Это тоже не дело. В детдоме был?
— Да, так получилось, остался один еще маленький.
Приходили вечером соседи, любившие деда.
— Вот тебе, Евдокимович, и сын,— говорили они.
— А что,— отзывался дед,— был бы помоложе — усыновил бы. Усыновил!
— Сынок,— говорил он мне,— а ты ложись. Ложись на мои подушки. Я на топчане пересплю. Тебе ить на работу завтра. Да, чуть не забыл. Весь день в голове держал: ты завтра вечером не поедешь со мной по сено? Подводу выпросил в колхозе. И слава богу. Коса там пропадает.
— Да съездим, съездим.
Добрел Евдокимович в поле. Поплевывал на руки, перехватывая окосье в удобном месте.
— Ну, распочинаем, сынок! — кричал он и запускал косу, радуясь работе, начинал широкий прокос.
Вжик, вжик! — валил дед травье. И вдруг увидел перепелку. Она притворилась подранком, переваливая через кочки, уводила от гнезда. Дед его обкосил.
— Сынок! — кричал он мне с другого края прокоса.— По остатнему разу зайдем — и хватит!
Травы окрест в пояс. Иную делянку вздумаешь пройти, так умаешься. Не возьмешь сто метров с ходу.
— Снимаемся! Снимаемся, говорю! — кричал дед с другого прокоса.— Э, как заходит!
— Да, дождь небось будет.
Закидали травьем подводу. Кобыла с белыми латками на спине, жмурясь и мотая головой, трусцой бежала в широких оглоблях.
Гонял ветер тучи над хутором, становилось свежо и прохладно. Деревья, растущие на меже, стонали, сопротивляясь ветру, который перебирал камыш сбоку стоявшей сторожки. Темнело понизу.
— Большой ты уже,— где-то на полдороге сказал Евдокимович,— а то усыновил бы тебя. Усыновил! Хорошо мне с тобой.
И я уже думал о том, что навечно поселился бы у Евдокимовича. У меня тоже никого нет. Но очень уж мы разные судьбами. А то остался бы. Нравилось мне у него.
Истосковалось его сердце по заботам о другом человеке.
— Сынок,— виновато говорил он,— ну сам посуди, что же, у меня душа порожняя?
Выходил с узелком на дорогу, встречал меня. В колхозе выписал килограмм майского меду.
— У тебя организма молодой,— говорил он,— тебе мед нужен.
Я лежал в подводе, и думалось мне о Евдокимовиче. Вот сейчас приедем, он внесет в хату канистру, дольем керосину. И опять потечет разговор плавно, как керосин в лампу. Дед будет рассказывать о том, как он работал на ферме.
Длинные годы изо дня в день приходил он на эту ферму, брал грабарку и направлялся в коровник. Дед заливал тачку навозом и катил ее по подвесной дороге на улицу. Много рейсов таких делал он по рани. А когда уже небо над выгоном краснело, он снаряжал своего Марса и скакал отлогим берегом.
Может быть, и Евдокимович думал сейчас об этом, потому что притих. И даже не пел, что редко с ним бывало, потому что петь он умел.
— Голос у вас хороший,— говорил я ему.
— Это уже не голос,— отвечал он.— Был голос. Мы, русские, петь умеем. Бог одарил нас таким талантом. Вот вас, молодых, сейчас в клуб сгоняют, чтоб вы пели в самодеятельности, а мы было сами соберемся и запоем. Да так запоем, что аж слеза прошибет. Покойный брат Федор было как запоет в доме — ворона на трубе не усидит. Вот с места не устать мне!
Мало оставалось до хутора. Металась над высокими скирдами молния. Навстречу нам ветер нес запах скошенного поля.
…Вчера утром дед узнал, что хлеб весь мы вывезли и что нам пора уезжать. Хоть и крепился Евдокимович, а новость эта его подкосила.
Прощание с хутором нелегко далось и мне. Я остро почувствовал тогда душой, что уезжаю навсегда. Хутор оставался позади. И теперь я видел его последний раз. Евдокимович попросился проводить меня до райцентра. И теперь сидел рядом со мною, трогал меня за руку:
— Сынок, я обратно забыл, когда ты будешь уже на месте?
— Встретимся еще? Приедешь? — спрашивал Евдокимович уже в райцентре.
— Приеду.
— Приезжай, сынок,— просил он, целуя меня и плача.— Приезжай. Мне так хорошо с тобой!
Долго еще виделся на дороге его новый голубой картуз…
— Прощай дед! — шептал я, махая ему рукой.