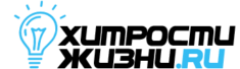Провела два вечера в общении со свекровью и поймала себя на том, насколько я отвыкла от общения в формате оценок. Отвыкла настолько, что они не просто перестали меня задевать, они превратились в какой-то иностранный язык.
«Ты считаешь это хорошо, что у тебя дети плохо говорят по-русски?». «Как Саша с детьми, достаточно занимается?», «А у тебя работа хорошая?», «А начальник хороший?», «А платят нормально?», «А Тесса мне кажется стала миловиднее, да?», «А Сашина диета – это нормально?», «А зачем он ударился в спорт в 40 лет, он же не тренером будет работать, это вообще нормально?».
Я теряюсь в ответах. Я могу сказать, что мне грустно, что дети предпочитают говорить на английском, но я не вижу в себе сил и возможностей принуждать их к русскому. Я могу объяснить, почему так. Могу поделиться, как во мне борются чувства вины, лени и тщетности. Я могу сказать, что Саша играет с детьми в монополию и учит Данилыча кувыркам, но я не знаю, достаточно ли это. Я не думала об этом в категории «достаточно». Я не знаю, хорошая ли моя работа и нормально ли мне платят. Я знаю, что я умею ее делать и я получаю на уровне рынка, и что кому-то она будет хорошей, а кому-то не очень, и что денег может хватать или не хватать, и это зависит. И что Тесса в моих глазах всегда красивая, уникальная и единственная, и я не могу оценивать ее по шкале миловидности, ни сейчас, ни раньше. И что у Саши такая диета, которую он себе выбрал, и что он занимается тем, что ему близко, и это приносит ему радость, и я не знаю, насколько это нормально и для кого.
И я задумалась сегодня, вот как так – такая разница в языке переваривания мира. Откуда берется потребность в оценке? Почему культурно существует заточенность на «она дура», «он молодец», «они все козлы». Убрался в комнате – хороший мальчик. Стукнул сестру – плохой.
На поверхности – так проще. Отсутствие привычки выдвинуть немедленную оценку вынуждает послушать, а что же он, этот мальчик, говорит. И почему он это говорит. И зачем он это говорит. А это вынуждает задуматься, что же он там чувствует. Как он это видит. Почему он так поступает. А это в свою очередь лишает возможности видеть в человеке объект, вынуждает реагировать, чувствовать в ответ, эмпатировать, понимать, слышать, думать. Резиновый штемпель «Они там все с ума посходили. Полыхаев» спасает от труда понять, чего это они, собственно.
Маленький ребенок – это чувства-сырец. Ни логики, ни относительности, ни способности смешивать, ни осознанности, ни контроля – все это разовьется много позже. Ребенок почти не внимает словам и не следует голосу разума – он за нашими словами жадно выискивает наши чувства. Именно поэтому психологи говорят, что отсутствующий, игнорирующий родитель много страшнее эмоционального. Дети говорят с нами на языке сырых, не затуманенных чувств, не скованных пока анализом их правильности, пристойности, адекватности и полезности. Язык маленького ребенка – это язык чувств, и ответ, который ищут дети – это наши чувства.
Что же такое оценка? Оценка – это отказ от со-чувствования. Это отказ от открытия «я» – «я вижу», «я понимаю», «я чувствую боль», «мне одиноко», «мне больно», «мне обидно», «я счастлив», «я рад», «я запутался», «мне стыдно» – и замена на суждение, резолюцию того, кто ты. Оценка – это отказ в диалоге на уровне чувств. Говоря с ребенком на языке оценок, мы отказываем ребенку в чувствах, заменяя их суждениями, о-суждениями. Он говорит с нами языком чувств, а в ответ слышит тарабарский. И быстро учится тарабарскому, ведь дети устроены так, чтобы учиться и адаптироваться. И становится взрослым с сакраментальным вопросом «а это вообще нормально?».
Когда нас ранят невыносимое горе, мы закрываем чувства, чтобы выжить. Я смотрю старые фильмы про войну, и меня поражает количество запретов на чувства. Только что погибли в огне ее дети, «нуну, соберись, война, не такое терпели». Да, в стрессе выживания мы отключаем многое – перестаем чувствовать боль, холод, голод, сочувствовать. И потом растим детей, не умея ответить им языком чувств, и они отмораживают его себе тоже, заменяя их оценкой, как способом ориентироваться.
Чувствовать – так непонятно и ненормально потому, что мы не умеем. Потому что каждое чувство внутри немедленно переводится в оценку. Я злюсь на ребенка, значит я плохая мать. Я хочу на ручки, значит я зависимая. Я обижаюсь, значит я недостаточно работала над собой.
Обучение любому языку всегда сложно. Знание языка – это прежде всего понимание другой картины мира, иной, не похожей на свою. То же самое с языком чувств. Решение не оценить, а услышать чужие чувства вынуждает чувствовать в ответ. Когда трехлетний вопит, что ему дали сломанный банан, проще всего сказать, что это фигня. Он тебе на своем, чувств и эмоций – а ты ему в ответ на своем, логики и оценки, тарабарском. Но он не понимает тарабарский, он только чувствует, что его не понимают, и учится тарабарскому. А потом вырастает большой и пишет в пустыню интернета: «меня никто не понимает», «хочется на ручки», «просто хочется, чтобы обняли».
Пока мы не поймем, что надо попытаться вспомнить забытый язык чувств, мы не выстроим близости, мы будем плодить поколение за поколением тех, кто смутно хочет на ручки, но не умеет про это ничего. Пока мы каждый раз, дисциплинированно и смиренно не будем учиться утерянному языку чувств, мы так и будем не понимать своих детей. Отмести непереводимую какафонию детских сырых чувств оценкой «он просто маленький и глупый» куда проще, чем хотя бы их увидеть. Увидеть и проанализировать их проще, чем попытаться понять. Попытаться понять проще, чем позволить себе со-чувствовать. Чем взять на ручки. Чем почувствовать всю обиду неправильности мира, в котором банан – сломан.